Биография
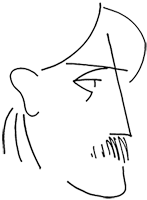
Алексей Дьячков
Родился 18 июля 1950 года в Москве.
В 1976 году закончил Московское художественное училище памяти 1905 года.
Член Московского союза художников (МСХ).
Свой творческий метод называет «Трансперсональный символизм». Работа в глубинах сознания связана с переживаниями, часто выходящими за пределы биографического опыта, этот «выход за пределы» и отражен в названии метода.
Работы хранятся в музеях России, частных галереях России, Франции, Чехии, Германии, Австрии, США, Финляндии, Голландии.
Я родился, когда еще был жив Сталин, и провел свое детство в огромном доме НКВД в густонаселенной коммунальной квартире на Кутузовском проспекте, тогда Можайском шоссе (мой дед работал в охране вождя, ордер на жилье деду выписывал сам генерал Власик). Из детских воспоминаний остались темно-серый дом, серый асфальт, серые лица, серые пальто и почему-то желтое небо над замкнутым двором. Странные воспоминания для в общем-то безмятежного детства. Наверное, над нашим домом и двором была какая-то зловещая аура, и я это чувствовал. А может, все-таки небо было не желтым, а золотым? Нет, не помню.
Себя рисующим я помню с пяти лет, когда изрисовал карандашом все белые, незапечатанные места в книгах из нашей небольшой домашней библиотеки, и был наказан родителями. Неплохое творческое начало. Даже помню, что я рисовал – человечков, похожих на колобков с ручками и ножками.
Одно из ярких впечатлений детства – посещение только что открывшейся панорамы "Бородинская битва". Отец принес с работы большой рулон засвеченной фотобумаги, и я всю ее изрисовал Бородинской баталией – метров десять примерно. Рисовал я все свободное от школы время, естественно, в ущерб урокам. А в школе мои тетради по всем предметам были такими: сначала записи по предмету, задачи, формулы и т.д., а с конца – рисунки, что в голову взбредет. Все это сходилось в середине, и мне приходилось начинать новую тетрадь. Рисовал я запоем, учителя сначала сердились, а потом перестали обращать внимание. Поэтому учился я средне, можно сказать плохо. Если я не рисовал, то торчал на Москва-реке, вглядываясь в даль, и почему-то наивно ожидая, что вот-вот из-за поворота Филевской поймы покажутся паруса каравелл. Романтическая натура, я любил рисовать корабли, собирал почтовые марки, мечтал о далеких путешествиях. Рисунки я раздаривал друзьям или просто выбрасывал, не видя в них никакой ценности, и у меня ничего не сохранилось. Жаль, ведь я родом из детства.
Насколько я помню, моя первая "персональная" выставка состоялась летом 1964 года, когда я отдыхал в пионерском лагере "Березки" по Ленинградской дороге. Лагерь располагался на территории бывшей помещичьей усадьбы, там был красивый пруд с островом посередине и старинная сосновая аллея, но сам помещичий дом не сохранился, на его месте стоял новый, бревенчатый, двухэтажный, в котором мы и жили. Будучи в пионерском лагере, я только и делал, что рисовал и читал, читал и рисовал, иногда с неохотой отвлекаясь на всякие мероприятия, поэтому в моей памяти лето – это запах леса и старых книг, перемешанный с "химозным" запахом туши и гуаши. Я постоянно, независимо от погоды, пропадал в изокружке: рисовал, лепил, выжигал, делал стенгазеты – и в результате удостоился выставки. Помнится, экспозиция состояла в основном из рисунков пером и тушью, изображавших рыцарей на лошадях, гладиаторов и мушкетеров (начитался), а гвоздем выставки была довольно большая скульптура из пластилина – бородатый партизан с автоматом и пальма на острове, контурами напоминавшем Кубу. Выставка имела некоторый успех, особенно у лагерного начальства, и я был удостоен высокой чести спустить флаг лагеря на вечерней линейке (наверно, за актуальность темы, тогда в Советском Союзе был "кубинский бум"). Тем не менее в конце смены, зная мою любовь к книгам, мне подарили две небольшие книжки "Рафаэль" и "Давид" за активное участие в изокружке и выпуск стенгазет. Я берегу эти книжки – мои первые книжки по искусству, заработанные пером и кистью.
Сейчас можно сказать, что с тех пор никаких наград (кроме тумаков) я не получал, да никогда к ним и не стремился. Но вот в 1999 году на открытии выставки на Кузнецком Мосту, 20, где я выставился вместе со скульптором Владимиром Колесниковым, сын одной моей знакомой, адвокат по уголовным делам, случайно пришедший на вернисаж, подарил мне роскошный букет цветов, сказав при этом: "Общаясь с бандитами и убийцами, я уже стал думать, что другого, чистого и светлого мира уже нет. А он все-таки есть!"
1968 год. Я тогда молодой, начинающий художник, недалеко от своего дома на Шелепихе, увидел стоящего у мольберта человека. Решил подойти поговорить как художник с художником. Лица художника я не видел, его скрывал холст. Не успел я приблизиться и на несколько метров, как из-за холста выглянуло очень худое, серое и злое лицо в кепке. "Пошел на х..." – сказало лицо. Я повернулся и ушел, понимая, что помешал творческому процессу. Это была моя первая встреча с настоящим художником. Через много лет узнал, что звали его Анатолий Тюков и жил он где-то в моем районе. Так случилось, что после его смерти, желая помочь его старой матери, я купил прекрасный этюд зимней Москва-реки со вмерзшими в лед баржами. А с самим Анатолием мы так и не познакомились.
Сразу после школы мальчишкой я пришел работать в отдел технической эстетики одного проектного института, где и познакомился с незаурядным человеком Борисом Петровичем Сафроновым. К тому времени я закончил художественную спецшколу, но это был первый художник, занимавшийся живописью, с которым меня близко свела жизнь, как оказалось, на долгие годы. Он жил в соседнем доме, в небольшой двухкомнатной квартирке, с женой и сыном, и я стал часто бывать там. Тогда же он показал мне толстый альбом сюрреалистов, большую в те времена редкость в Москве. Я впервые увидел "Горящего жирафа" Сальватора Дали (там на переднем плане две женские монстроподобные фигуры, у одной из которых тело в выдвижных ящичках, а на горизонте – объятый пламенем жираф). Удар был такой силы, что, помнится, я не спал всю ночь, находясь под впечатлением от увиденного. Для меня открылось какое-то новое таинственное пространство, пугающее и манящее. Я никогда серьезно не увлекался сюрреализмом, хотя ценю Макса Эрнста за эзотерический контекст и "непопсовость", но всегда в своих работах пытаюсь передать ощущение "другого пространства", когда-то поразившего меня в "Горящем жирафе".
* * *
1969 год. Я с друзьями в гостях у известного художника-нонконформиста Василия Ситникова. Посреди небольшой однокомнатной квартиры стоит здоровенная деревенская наковальня (говорят, когда ее поднимали на лифте, он сломался). На стенах большие, очень древние иконы, потрясающей красоты и, наверное, неимоверной цены, на полках старинные рукописные книги, под потолком – байдарки. Сам Ситников бородатый, в сапогах и брюках-галифе, в рваной грязной майке, напоминает скорее обитателя какой-нибудь "малины", чем художника. В кармане на цепи большой нож. На лице почти постоянно блуждает хитроватая улыбка. Ближе к окну, на мольберте холст – пьяное гуляние на фоне Троице-Сергиевой лавры. По всему холсту мелкие снежинки. Картина похожа на увеличенную карикатуру из "Крокодила". В углу за столом сидит человек с затравленными глазами и что-то хлебает гнутой ложкой из алюминиевой миски. "Это мой ученик", – поясняет хозяин, затем берет какую-то книгу в кожаном переплете, очень старую и толстую. Читает, что истинно православным не подобает пить кофе, а тем паче чай. "Почему чай?" – спрашиваем мы. "Потому что раньше чай не заваривали, как сейчас, а кипятили. Да, чифирили наши предки", – подмигнул Ситников, и ни с того ни с сего предложил мне стать его учеником. Я представил себя на месте того, с миской, и ответил, что пока не достоин такой чести. Ситников равнодушно махнул рукой. Потом я узнал, что он уехал, кажется, в Америку. Но недавно, проходя по аллеям Ваганьковского кладбища, на одном из памятников увидел знакомое лицо со все той же хитрой улыбкой – Василий Ситников. Как известно, умер он в Нью-Йорке, но, личность оригинальная во всех смыслах, этот юродивый от искусства успокоился все-таки в московской земле.
1969 год. Знаю, что в соседнем со мной доме живет один из интереснейших и уже известных на Западе художников – Владимир Яковлев. Однажды Борис Сафронов, живший с ним в одном доме и хорошо знавший его, привел меня к нему. Познакомились. Небольшая двухкомнатная квартирка, Володя живет с родителями, работает в восьмиметровке. Старый диван, столик, краски и огромное количество работ – на диване, на полу, на стенах. Цветочек, цветочек, цветочек... Загадочные, наивные, беззащитные цветы, не от мира сего, как и он сам. Маленького роста, полуслепой, полусумасшедший гений московского андеграунда. (По словам Бориса Сафронова, Володя полгода дома, полгода в психушке. Такой вот творческий ритм.) Смотрим его гуаши, опять цветы, собаки, странные портреты. Гуаши сделаны на ватманских листах, а с другой стороны какие-то технические чертежи. Володя немногословен, все время щурится и курит. Вдруг спрашивает меня: "У Ваших родителей есть ордена?" "Не-е-т", – удивленно отвечаю. – "А Вам зачем?" "Хочу написать чей-нибудь портрет с орденами". – Помолчал. – "Сейчас это очень модно". В скором времени я узнал, что родители в очередной раз, с началом обострения, сдали его в психушку.
В Художественном училище памяти 1905 года мне посчастливилось учиться у Осипа Абрамовича Авсияна, педагога от Бога, интеллигентного и эрудированного человека. Он пытался привить нам вкус, культуру, профессиональное отношение к искусству. Осип Абрамович примечал меня, называя в шутку "маэстро", а мне нравилось показывать на занятиях по композиции свои работы. Показы всегда выливались в бурные, дельные обсуждения. Высшей похвалой в его устах было: "А вот это, по-моему, ничего" или "А вот это серьезно". Это был бесценный опыт, настоящая школа. До нашего училища Авсиян недолго преподавал в Строгановке, но ушел оттуда из-за консервативного духа, царящего там – никакого формализма, даже имена Пикассо и Леже, работы которых он часто разбирал с нами, были под запретом.
Как-то Осип Абрамович рассказал интересную историю про Михаила Врубеля, который, согласно легенде, преподавал в Строгановке только один день. Тем не менее теперь там висит его портрет, в ряду других педагогов разных лет.
Так вот, Врубель пришел на занятие и дал студентам задание нарисовать орнамент из цветов. Студенты долго пыхтели, стараясь не осрамиться перед известным художником, но в итоге нарисовали сплошные банальности. Тогда Врубель сам стал рисовать орнаменты и студенты увидели чудо. Рисунки появлялись один за другим, все разные, замысловатые и один красивее другого. Когда набралась целая кипа рисунков, Врубель молча встал и, тихо попрощавшись, вышел из аудитории. Больше он в училище не появлялся. Вот такая история. А студентам все-таки повезло – они увидели, как работает Великий Мастер, а это дорогого стоит.
Лето 1973 года. Мы, компания художников из Москвы, живем в ранее пустовавшей избе в деревне Шишкино, близ Ферапонтово, пишем этюды, размышляем о живописи. Новый Барбизон. У нас сухой закон. На мой день рождения купили в сельпо одну бутылку кирилловского вермута на шестерых. У местных шок. Деревенская норма – шесть бутылок на одного в день.
Необыкновенное, мистическое, незабываемое ферапонтовское лето, полное открытий и откровений.
Здесь я увидел чудом сохранившиеся фрески Дионисия и понял, что росписи в Сикстинской капелле его современника Микеланджело вульгарны и натуралистичны.
Именно здесь, вглядываясь в цветные дали, я начал понимать, что такое структура пейзажа.
Здесь я увидел двойную радугу над Ферапонтовым монастырем. (Изобразить невозможно, обвинят в излишней красивости. Но я это видел!) И мне впервые захотелось молиться.
Здесь я впервые усомнился, что земля круглая – только солнце село на западе, тут же встает на востоке.
Здесь мы познакомились с чудесными людьми – Сергеем Сергеевичем Дмитриевым, профессором-историком из МГУ и его женой Региной Генриховной, ставшими нашими друзьями на многие годы.
Только здесь можно было увидеть незабываемое зрелище: гарцующего по полям на белом коне доброго молодца Колю Обухова с развивающейся бородой, в красной рубахе и белой кепке (к восторгу местных телятниц и заезжих художниц), и дающего с коня указания художникам, как правильно брать на холсте отношение земли и неба.
Здесь, теплым летним вечером в свой день рождения я, после полстакана вермута, написал свой лучший этюд, по мнению некоторых, почти де Сталь. (А говорят, что выпивать нехорошо.)
Здесь осталось мое сердце, здесь мой Грааль...
Как-то вечером на берегу Бородавского озера, прямо под стенами монастыря, кто-то разжег большой костер и к нему стали стекаться жившие в округе художники, приехавшие в Ферапонтово из разных мест. Собралось десятка полтора, все трезвые и серьезные. Говорили мало, больше просто молчали. Я посмотрел вверх. На фоне темно-синего неба, в отблесках пламени светились стены Ферапонтова монастыря. Мне подумалось, что много веков тому назад на этом же самом месте, возле костра, сидели монахи и с ними Дионисий с сыновьями, наверно, они тоже молчали, мысленно разговаривая с Богом, ибо з д е с ь , как нигде, ощущается близость к Нему.
Позже я еще несколько раз приезжал в Ферапонтово, жил здесь, писал, и всегда ощущение какого-то радостного чуда не покидало меня.
* * *
Начало 80-х. Решил повести свою маленькую дочку на выставку художников-авангардистов на Малой Грузинской, где выставился и сам. Подходим к дверям. На крыльце, загородив вход на выставку, лежит пьяный человек. Глаза закрыты, на лице счастливая улыбка. Мы подошли, и я говорю: "Смотри, Наташенька, это великий русский художник Анатолий Зверев".
Мы осторожно перешагнули через неподвижно лежащее тело и вошли в вестибюль. И многие, кто шел на выставку, переступали, не догадываясь, что этот человек – последняя легенда московского андеграунда, чьи работы в скором времени будут украшать лучшие коллекции и галереи мира.
* * *
В своих дневниках Александр Блок пишет, что из поэтов останутся только те, у кого есть "чувство пути". Наверно, это очень важно для художника – "чувство пути". Но как найти свой путь? Главное – идти...
Живя летом на юге Украины, примерно в одной полосе с югом Франции, где все напоминает картины Ван Гога: и ухоженные ровные поля, и высокие пирамидальные тополя, и феерические звездные ночи, – я решил нарисовать подсолнухи в память о любимом художнике. Сорвав за городом несколько, на мой взгляд самых красивых солнцеобразных цветов, я понес их домой. Каково же было мое разочарование, когда, не дойдя до дома, я увидел, что цветы стали быстро вянуть и через некоторое время завяли совсем. Каким же темпераментом обладал Ван Гог, чтобы успеть донести подсолнухи до мастерской, поставить в кувшин и написать холст. Поэтому подсолнухи на картинах Ван Гога в стадии увядания.
* * *
В Париже известный художник-абстракционист Пит Мондриан жил на втором этаже дома, на первом этаже которого находился бордель. Его мастерская была абсолютно белой, идеально чистой и рациональной, как его живопись. На проституток он не обращал никакого внимания. Почему же нам все время приходится жить под "борделем", а не над ним, пребывая в суете и хаосе?
* * *
Когда-то я мечтал жить так, как жили известные художники в начале ХХ века, пусть в бедности и безвестности, но для искусства, наивно романтизируя ту эпоху, и смутно, по книгам, представляя себе, как это было. И вот теперь моя мастерская завалена работами, с потолка капает, когда идет сильный дождь, картины плохо покупаются, в кармане часто последние копейки, здоровья нет. Правда, я не сифилитик, как Мане и Гоген, и не алкоголик, как Утрилло и Модильяни, – упущение. (Знаменательно, что место на Пресне, где я живу, в народе называют "маленький Париж". Действительно, чем-то напоминает, особенно вечером, когда горят фонари многочисленных кафе – ну просто Монмартр.) Не надо сильно мечтать, мечты иногда сбываются. Ау, Великие!
* * *
Летом 1988 года я написал работу, которой дал, на мой взгляд, очень оригинальное название "Буддийское лето в Москве", и очень гордился своей находчивостью, тем более, что название подходило к работе и соответствовало состоянию природы московского лета.
Через несколько лет, читая сборник стихов Мандельштама, я наткнулся на одно стихотворение 32-го года, начинавшееся словами: "Полночь в Москве. Роскошно буддийское лето", – и поразился неожиданной схожести ощущений летней Москвы. В своих статьях об акмеизме Мандельштам писал, что поэзия – это звучащая живопись. Красиво.
* * *
В конце 80-х годов я работал в одном НИИ с Ариной Шегай, кореянкой по национальности, сестрой известного писателя Анатолия Кима, автора мистической повести "Белка". Я рассказал Арине о Василии Васильевиче Налимове (об этом выдающемся человеке отдельный рассказ) и та решила познакомить с ним своего брата. Встреча состоялась в квартире, недалеко от Речного вокзала, где тогда жили В.В. и его супруга Жанна Александровна Дрогалина. Я тоже присутствовал при встрече, которая длилась более пяти часов. Говорили о том, о сем, В.В. рассказывал о лагере, о современной науке, о философии, а Ким о литературе и в частности о том, как цензура искорежила его "Белку", и еще рассказал небольшую историю в чеховско-шукшинском духе, которая мне запомнилась. Ким купил дом в глухой деревне где-то на Мстере или Мещере, точно не помню. Приехал, пригласил местных мужиков и стал им что-то красноречиво рассказывать, пытаясь расположить их к себе. Рассказывал долго, с подъемом и, как ему казалось, занимательно (писатель как-никак). Мужики долго и внимательно слушали, пристально глядя на распинавшегося писателя. Когда Ким решил передохнуть и послушать, что скажут мужики, один из них вдруг спросил: "Парень, а ты случайно не еврей?" С Кима разом слетел весь пафос интеллигента-"деревенщика". После некоторого шока Ким объяснил, что он кореец, но мужики, как ему показалось, не поверили, потому что никогда, наверное, не видели живых корейцев, как впрочем, думается, и евреев тоже. Поняв, в какую глухомань он попал со своими столичными иллюзиями, Ким долго над собой подсмеивался. Впрочем, никакой враждебности к себе со стороны местных не испытывал, но недоверчивая настороженность была – чужой какой-то, на нас не похожий.
* * *
1989 год. Январь. В России художественный бум. Художники как с цепи сорвались – одна выставка за другой и все интересные. Народ на выставки валит валом, работы покупают охотно (к сожалению, скоро этот бум внезапно закончится, и большинство публики потеряет интерес к искусству. Объелись? Разочаровались?).
Мы, пятеро художников из "Колеса", – Борис Сафронов, Елена Розенберг, Андрей Абрамов, Николай Обухов и я – организовали выставку "Метасимволизм" в галерее "Нагорная" (название выставки придумал Андрей Абрамов). Даже по тем временам успех у выставки был огромный, ее посетило около тысячи человек. В культурной программе выставки должен был выступить отец Александр Мень. Зал был набит до отказа, отец Александр запаздывал. Наконец, по залу пронеслось: "Приехал!" Войдя в зал в сопровождении привезшего его Ильи Басина, тихо спросил: "Какая аудитория?" Услышав ответ: "Художники", – молча кивнул головой и... сходу прочитал двухчасовую лекцию на тему "Искусство и христианство". В черной рясе протоиерея, с серебряным крестом на груди, он непривычно смотрелся на фоне ярких абстракций.
После лекции мы познакомились и разговорились. Я показал отцу Александру свои работы, и они ему понравились. Он очень спешил, но мы проговорили еще с полчаса, и я понял, что отец Александр искренен по отношению к моим работам, увидя в них нетрадиционный подход к теме христианства.
Мы виделись с отцом Александром еще несколько раз, но я так и не успел задать ему многие волнующие меня вопросы. В сентябре 1990 года его зверски убили. Не любят и не берегут на Руси умных людей. Тогда же я написал работу – реквием памяти Александра Владимировича Меня и назвал ее "Воплощение".
* * *
Мое взросление и становление совпали с Великой рок-эпохой, начавшейся в начале 60-х годов и закончившейся 8 декабря 1980 года убийством Джона Леннона. Апогей этой эпохи пришелся на 1970 год, когда распалась группа "Битлз" и была создана рок-опера "Иисус Христос суперзвезда". Я пронес в себе эту музыку через всю жизнь.
Середина 90-х. Я спустился в подземный переход возле станции метро "Октябрьская". В переходе пусто, только в центре его стоит бородач, мой ровесник, и на великолепной гитаре исполняет мою любимую песню из "Битлз". Я прошел мимо, опустив глаза от обиды и горечи за мое потерянное поколение. Когда-то, слушая музыку, мы мечтали о "земляничных полянах", "бриллиантовых небесах" и "магических путешествиях". Теперь кто на помойке, кто в подземном переходе, а кто и на погосте. Денег гитаристу я не дал, не умею подавать – не от жадности, от гордыни.
* * *
В силу сложившихся обстоятельств я плохо передвигаюсь, поэтому часть моей активной жизни происходит ночью в снах: там я бегаю, прыгаю, путешествую по разным городам и странам. Часто попадаю в Прагу, где был когда-то в далекой юности, хотя во сне это совсем другой город, но все равно Прага. Несколько раз был в Париже. Однажды мне приснилась выставка Сезанна, где висели работы, никогда Сезанну не принадлежавшие, да и совсем не в его стиле. Так это были мои работы (это ведь мой сон) или все-таки Сезанна? До сих пор не могу разобраться.
Иногда сны такие яркие, что я долго хожу под их впечатлением, записываю их и даже зарисовываю. Чужие сны я слушать не люблю и свои рассказываю неохотно: сон вещь интимная, да и пересказать их практически невозможно, важны личные ощущения, а сюжет, как правило, отрывист и абсурден. ("Самое скучное на свете – чужие сны и чужой блуд", – как-то заметила Анна Ахматова.) Все-таки сновидения – ценнейшая особенность человека. Как любил говорить Василий Васильевич Налимов: "Компьютеры снов не видят".
* * *
Готовясь к "Вологодской выставке" 1998 года, я решил написать пейзаж "Ферапонтово – русский Грааль. Опаловый день" с этюда 1979 года. В процессе работы, пытаясь заново пережить ощущения того летнего дня, я вдруг явно почувствовал запах скошенной травы и полевого клевера, будто я не в своей мастерской, а там, в деревне Шишкино, с холма пишу через поля Ферапонтов монастырь в дымке опалового дня.
Неужели память воскресила запахи двадцатилетней давности? Какие механизмы сработали в мозгу? А может, был момент, когда я в состоянии напряжения не заметил, как просто выпал в ТО пространство, я был ТАМ и действительно вдыхал ТОТ воздух и ТЕ запахи? Пейзаж получился неплохой, ведь я писал его с н а т у р ы, я снова был ТАМ!
* * *
Однажды в припадке душевной слабости я пожаловался своей жене, что не могу ни рисовать, ни писать, даже пальцы карандаш не держат. Ответ, как подзатыльник: "Нечего, пиши давай, должен же ты как-то оправдывать свое существование". Какие музы вдохновляют, а какие и пинками заставляют работать.
* * *
"Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется".
Начало семидесятых. Время тотальных запретов – время расцвета самиздата. Загнанный на кухни интеллект ищет способы самореализации. По ночам стучат пишущие машинки – мысль пытается вырваться на свободу, материализуясь в машинописном тексте, хотя бы убористо, на плохо читаемом четвертом экземпляре, но дойти, наконец, до того, кто ждет ее, кому она так необходима. И доходила. И легкие наполнялись живительным воздухом, и мысль будоражила мысль, рождая новые идеи, и жизнь казалась не такой никчемной и тухлой. Семидесятые – время смелых идей, отчаянных людей и время расцвета "самиздатовской культуры".
И вот, "духовной жаждою томимый", мой старший друг, неугомонный и прозорливый, Виталий Степанович Грибков, художник и теоретик ("сам себе академия художеств", как метко сказала о нем Жанна Александровна Дрогалина), поклонник и последователь французской школы живописи и минимализма, задумал издавать машинописный журнал большого формата под названием "Метки по новой живописи", где бы отражались творческие искания "параллельной культуры".
В те годы я сильно увлекался книжной графикой, и Виталий Степанович попросил меня придумать обложку для первого номера. Я с радостью согласился. Вспоминается необычно теплый для осени солнечный день 12 октября 1974 года. Я сижу в холле родильного дома возле Красногвардейских прудов, куда утром отвезли мою жену, и в ожидании рождения дочки (я ни на секунду не сомневался, что у меня будет дочка) рисую в альбоме эскизы обложки. Моя лепта.
Первый номер "Меток" вышел в августе 1975 года, в количестве, если я не ошибаюсь, пяти экземпляров и с моей обложкой. На обложке я изобразил птицу Сирин, как символ искусительного таинства искусства. Помнится, журнал делался как-то весело, без натуги, для души. От номера к номеру спектр интересов журнала расширялся: искусствоведческие и философские статьи, поэзия, эссе, архивы, хроника культурной жизни, уникальные иллюстрации, фото. Журнал выходил благодаря подвижничеству Виталия Степановича до марта 1980 года, разлетаясь по Москве и оседая в частных архивах. Впоследствии оказалось, что это был единственный в Москве самиздатовский журнал по теории изобразительного искусства.
Прошло много лет. Многое стало историей, стерлось, забылось под валом обрушившейся на нас информации. Зимний вечер начала нового тысячелетия. Мы сидим с Виталием Степановичем в его небольшой квартирке-мастерской в Чертаново. В углу груда холстов и подрамников, чистых и уже записанных, на стенах работы его старинных друзей: Виктора Сорокина, Павла Барбашова, Вадима Луговского и небольшой фотопортрет Николая де Сталя. Мы пьем крепкий чай с пряниками и как всегда разговариваем о живописи. Степаныч с мальчишеской принципиальностью хочет мне что-то доказать, а я и не пытаюсь с ним спорить, потому что Степаныча в спорах о живописи переубедить невозможно, да и не нужно – надо просто слушать и впитывать, ибо суждения его основываются на глубоком знании, большом творческом опыте и желании по-новому осмыслить традицию, наполнить ее нетривиальными идеями. Но главное – его приверженность принципам живописи и отношение к ней, как к абсолютной ценности. Это всегда подкупает и не может не вызывать искреннего уважения.
Степаныч совсем седой и, по его словам, стал плохо видеть, но глаза за вечно сломанными очками такие же как всегда острые и живые. Он неожиданно и легко вскакивает, достает из книжного шкафа объемистую книгу и с таинственным видом протягивает ее мне. Прекрасно изданный фолиант на немецком языке, посвященный "советскому самиздату". Бремен, 1998 год. Я осторожно перелистываю книгу и вдруг в изумлении застываю – на всю страницу напечатана обложка первого номера "Меток". Моя обложка.
"Нам не дано..." А может, все-таки дано?
Делай, что должен, а там будь, что будет. Непременно будет.
* * *
Странное ощущение: или я все время отстаю и приходится догонять, или забегаю очень далеко – никак не могу очутиться в нужном месте в нужное время. Странное ощущение.
* * *
На моей "поэтической полке" среди сборников любимых поэтов хранится, как драгоценность, небольшая машинописная самиздатовская книжка "Фред Солянов. Двучастие. Стихи. 1970-1975 гг." На титульном листе надпись: "Леша, пока мы живы, мы вместе, как бы плохо нам ни было. 24.9.88". Эту надпись Фред сделал мне после своего концерта в галерее "Нагорная", на выставке Виталия Грибкова, может быть, лучшей из виденных мной. Я хорошо помню тот вечер, собралось человек двадцать-тридцать, в основном близкие друзья. Принимали Фреда как всегда очень тепло, много хлопали, что ему почему-то не очень нравилось, наверно это нарушало канву концерта. Я был со своей дочкой-школьницей, которая слушала Фреда, как завороженная. Со стен кокетливо поглядывали обворожительные "ню", и Фред с гитарой на их фоне смотрелся великолепно. Песни были замечательные, и на гитаре Фред играл мастерски. Особенно имели успех "гусарский цикл" и песни о Грузии, где он недавно был.
Наверное, нет правды на земле.
Наверное, ее нет и на небе.
Мчит наша правда, как пастух в седле,
Меж небом и землею. Гагиждеби.
"Гагиждеби" по-русски – "с ума сойти".
В нашем кругу Альфреда Михайловича любили все. Всегда в вязанном свитере, небольшого роста, с бородкой, он походил на типичного битника-шестидесятника, только очень добродушного. Ироничный и веселый в кругу друзей, сосредоточенный и даже хмурый во время исполнения своих песен – это был все тот же Фредушкин (как ласково звал его грузинский друг Гурам), лирик и ерник, поэт высшей пробы. Любил выпить, мог выпить много, но при необходимости умел моментально трезветь.
Однажды мы, друзья-художники, для творческих экспериментов сняли с осени до весны 79-80 годов дачу полковника Абеля в Челюскинской. К открытию творческого сезона я написал большой плакат "Комитет государственной безопасности при Министерстве культуры СССР. Творческая разведдача имени полковника Абеля" и повесил его на дом. Интересно, чего бы мне могла стоить эта "невинная шалость", если бы узнали "где надо". Но среди нас не было стукачей.
Пригласили пожить и Фреда, предоставив ему прекрасную комнату с диваном и письменным столом. Фред привез печатную машинку, пачку бумаги и гитару в чехле. На даче стояла абсолютная тишина, только изредка слышалось постукивание машинки Фреда. Борис Сафронов корпел над рукописными альбомчиками "Тамтатута", а я и Коля Обухов, сопя, пытались осмысленно замазать большие холсты. Вечером мы собирались на кухне, хозяйственный Фред варил картошку, и мы ужинали, закусывая вино из соседнего "сельпо" любительской колбасой и квашеной капустой. Разговаривали допоздна. Помню, Фред увлеченно рассказывал о герое войны 1812 года, партизане-разведчике Фигнере, повесть о котором задумал написать. Потом были стихи – и серьезные, и хмельные, и похабные. Последние Фред читал с особенным поэтическим чувством и смаком. Приведу одно из них по памяти.
Мне Людмила говорила,
Отдаваясь в неглиже,-
"Я тоскую не по х..,
А по родственной душе".
Через час я притомился
И с душой ее сроднился.
Утром опять борьба с холстами, стук машинки, а за окнами белым-бело и тихо падает снег. Творческая идиллия продолжалась недолго. Внезапно Фред исчез вместе с гитарой. В машинке остался сиротливо торчать недопечатанный лист. Через пару недель Фред появился также внезапно, как и исчез – потрепанный, но бодрый. Вновь сел за машинку, но так и просидел до вечера, не дотронувшись до нее, задумчиво глядя в окно. Вечером уехал опять и больше на даче не появлялся. Так и стояла до весны машинка с начатым листом, пока кто-то не забрал ее. Не мог Фред долго жить и работать в тишине и комфорте, непривычно да и не нужно.
Последний раз мы с Фредом виделись на нашей выставке "Краски Белозерья" в галерее "Беляево" осенью 1998 года. Фред был сильно болен, выглядел очень плохо, но мы были очень рады, что он приехал. Стоя возле моих пейзажей, Фред произнес фразу, которую я хорошо запомнил: "Все, о чем говорил Виталий Грибков, сделал Алексей". (Виталий Грибков – художник и теоретик спектрального пейзажа.) Услышав это, Виталий Степанович насупился, но ничего не сказал, а для меня это замечание было ценно.
Вскоре Фред Солянов умер. К сожалению, я не был на его похоронах, но память о нем, может быть, одном из лучших лириков-бардов ХХ века, живет во мне сбывшимся радостным праздником, светлой грустью.
* * *
Осенью 2001 года мы, группа ученых и я, возвращались из Сыктывкара в Москву со Вторых налимовских чтений, где проходила приуроченная к этому событию моя персональная выставка в Национальной галерее Республики Коми. "Огазеченный" и "обэкраненный", под стук колес, я размышлял о том, что пути Господни неисповедимы.
За окнами темнело. Мы собрались в одном купе, чтобы за разговорами скоротать время пути. "Тук-тук, тук-тук", – стучали колеса поезда. По обеим сторонам дороги темнел нескончаемый дремучий лес, мела метель, а в купе было тепло и уютно. Мы пили чай, тихо обсуждая прошедшее мероприятие. С нами в купе ехала Елена Владимировна Маркова, совсем юной попавшая в Воркутинские лагеря и "отмотавшая" там десять лет. Постепенно разговор перешел на лагерную тему. Под мерный стук колес мы слушали неторопливый рассказ Елены Владимировны, иногда задавая вопросы, а она обстоятельно, с мелочами все описывала так, будто это было совсем недавно. В частности, она рассказала, как привозили в Воркуту заключенных – на баржах, сначала по Печоре, затем через Печорское и Карское моря. Выживала треть, а баржи все шли и шли...
За окнами совсем стемнело, а лес все не кончался. И вдруг меня пронзила страшная мысль, что едем мы по железной дороге, которую строили заключенные, то есть едем по их костям. "Тук-тук, тук-тук, тук-тук", – стучали по "костям" колеса. Я посмотрел в окно. Мне показалось, что из темноты на меня, не мигая, смотрят тысячи глаз людей, навсегда оставшихся в этом лесу.
* * *
С 1986 года я – один из зачинателей и членов творческого объединения "Колесо". С 1999 года я участвую в выставках объединения "Четыре колеса". Теперь выставляюсь и с теми и с другими. Интересно, зачем судьба устроила мне это "колесование"?
* * *
Когда я бываю на выставках живописи, всегда мысленно помещаю среди картин "Черный квадрат" Малевича, как высший, на мой взгляд, и конечный пункт развития живописной системы, ее своеобразный камертон. (А недавно один искусствовед назвал "Черный квадрат" кувалдой, разбившей передвижничество, да и не только его.) И очень часто эта работа бывает интересней всех других. Конечно, это мое субъективное видение, может быть, мудрость пришла, может, усталость. А может, совсем другое. Как-то я отметил для себя, что высшая логика – никакой логики, абсурд; высшее ощущение музыки – тишина; вершина актерского мастерства на сцене – пауза; высшее проявление чувственности в искусстве – ее полное отсутствие ("Черный квадрат") и т.д. Значит, подумал я, высшее проявление живописи – белый цвет (свет).
Позже на Арт-салоне в Манеже в 2003 году я в составе группы "4 колеса" выставил часть своей "Вогульской серии", семь небольших холстов "белое на белом", со сложной символикой и рельефом. Не знаю, торжествовала ли живопись, но душа моя была спокойна, я почувствовал, что растворяюсь в своих работах, а те растворяются в свете. Я слышал, как зрители шептались возле моих работ: "Концепция, концепция...", – а вся моя "концепция" – всепоглощающий свет, идущий через белый цвет. Все остальное – контуры, мерцание. И конечно, таинственная символика исчезающей культуры, открывшаяся мне по счастливой случайности и позволившая увидеть БЕЛОЕ.
* * *
Какая прелесть – белое на белом. Даже когда представишь себе белое на белом, становится легче дышать и думать.
* * *
Я не люблю, когда меня спрашивают о моих работах: "Что здесь изображено?" Как это можно объяснить, если часто мне самому неведомо – привиделось, увиделось, сочинилось. ("Если надо объяснять, то не надо объяснять", – любимый афоризм Зинаиды Гиппиус.)
В чем основная идея того, что я делаю?
Поиск новых знаков и символов, их органичное взаимодействие с живописной или графической средой (пространством), способное по новому раскрыть смысловой потенциал этих знаков и символов. При этом не столь важны новые формы (это заманчивая сверхзадача), сколь их адекватность, усиливающая глубину переживания. В.В.Кандинский называл это "внутренним влечением" и "сверхчувственной вибрацией".
* * *
Смысл символизма – свобода духа. Будущее символизма – новая образность. Вечность – пространство для творческого поиска. Блаженный Августин писал в своей "Исповеди": "В вечности ничего не происходит, но пребывает, как настоящее во всей своей полноте; время, как настоящее, в полноте своей пребыать не может".
Символизм метафизичен по своей сути, он рвется за пределы времени, туда, где все есть, но "ничего не происходит", и дух всеобъемлет пространство, и пространство раскрывает перед ним свои тайны и образы.
* * *
Иногда в своих работах я отказываюсь от ярких цветов (которые очень люблю) и даже цвета вообще, делая монохромные работы. Цвет – это как окно в комнате: хочется много воздуха и шума – открываешь окно, начинает сильно дуть – закрываешь. Отсутствие цвета – это покой, а "покой есть главное в движении" (Лао-цзы).
* * *
Нет ничего упоительнее, чем раствориться в тобой же написанной работе. Становишься буддистом.
* * *
Весной 2003 года собравшись духом я начал на больших холстах "Египетскую серию" и работал над ней больше года. Я и раньше обращался к символике Древнего Египта, чувствуя что-то близкое. Недавно я понял, как близко мы находимся от этой загадочной цивилизации. В центре Москвы стоит пирамида, в ней лежит забальзамированная мумия фараона (а было две, в детстве сам видел), и какие-то люди (жрецы?) ходят ей поклоняться. Все наше общество – пирамида от рабов до фараона, и за тысячелетия ничего не изменилось. И тайны остались те же. Иногда мне думается, что истоки супрематизма в египетском искусстве – такая же чистота стиля, величественная простота и бездонная эзотерика. К примеру, если поместить "Красный квадрат" Малевича или какую иную супрематическую вещь в египетском храме, те впишутся идеально, а о смысловой глубине я и не говорю. И древним египтянам, наверное, это было бы близко и понятно.
* * *
2003 год, октябрь. Дождь. Меня опять потянуло на пейзаж. Сколько раз зарекался больше не писать пейзажи. Не получается. Тянет. Когда дуреешь от замкнутого удушающего бытия и сложной, часто самому мало понятной символики, хочется пространства – цветного пространства. Возникает пейзаж – пусть обобщенный, условный, навеянный когда-то виденным, но, тем не менее, выражающий состояние души. Хочется чего-то желтенького – пишу желтое пространство, хочется красненького (не в смысле выпить) – пишу красное, хочется голубенькое (не подумайте ничего такого) – пишу голубое, и так далее.
Вообще, для меня пейзаж – это опыт построения "дышащего" пространства, в котором свет и цвет двигаются и вибрируют, создавая ощущение воздуха и мерцающего свечения, столь необходимых и для абстрактных, метафизических работ. Я думаю, что в любой картине, пусть самой нереальной, должны чувствоваться свет и тепло солнца, может быть, тоже нереального ("призрак" солнца), но все-таки дающего жизнь даже сухой, геометрической конструкции. Но главное – в пейзаже должен быть звук. Как он появляется, для меня загадка.
Ж.А. как-то сказала мне в присущей ей жесткой манере: "Ведь ты не пейзажи пишешь, ты их писать не умеешь. Ты пишешь свое внутреннее пространство".
* * *
В изящном и по-английски остроумном эссе Кеннета Кларка "Пейзаж в искусстве" я нашел интересные замечания об импрессионизме. Называя импрессионизм "живописью счастья", отдавая должное цветовым открытиям импрессионистов, их новаторству и демократичности, Кларк с некоторой грустью констатирует: импрессионизм – не высокое искусство. "Сводить живопись к чисто зрительным ощущениям, значит касаться лишь поверхности нашего духа, – пишет Кларк и продолжает. – Высочайшее творение искусства – непостижимый образ. Образ есть "вещь", а импрессионисты ставили своей целью устранение вещей".
Я давно заметил, что многие художники боятся и не любят слово "образ", дискредитированное и опошленное советским искусствоведением ("образ строителя коммунизма"), но испокон веков на Руси образами называли иконы, каноническое изображение того самого "непостижимого". Образ – это некий сплав памяти и интуиции, соотнесенный с бесконечностью.
Я ничего не имею против импрессионизма – как можно не любить это прекрасное, радостное, светлое искусство, но мир намного сложнее, глубже, драматичнее, тем более каким он стал сейчас. Так как же собрать распавшееся на части наше мироощущение в единый образный ряд, на что опереться? На "нечто" по ту сторону бесконечности? Можно и в сиюминутном найти высокое и даже вечное, но сиюминутное – это что-то постоянно меняющееся, ускользающее, случайное – это физический мир, а дух – понятие метафизическое, в него входит все, чем жив человек, вся онтологическая совокупность его представлений и переживаний.
Василий Васильевич Налимов утверждал, что Бог в спонтанности. Но спонтанность – это не житейская случайность (часто глупая), а непредсказуемость потока сознания.
Впрочем, как это там у Козьмы Прудкова – "не обнимай необъятное"?
А так хочется.
* * *
"Мы бродим среди судеб нашего земного существования, нас сопровождают смутные воспоминания о более широкой судьбе – но они всегда с нами. Об очень далекой, бесконечной, величественной судьбе прошедших времен". (Эдгар По "Эврика")
Я – художник Атлантиды. Это неожиданное открытие я сделал недавно, в очередной раз просматривая свои работы за двадцать лет.
"Всплыл", – прокомментировал мой друг художник Валера Сопп.
Скорее – погрузился.
Что-то сошлось внутри меня – времена и пространства, отголоски каких-то мифических земных и внеземных цивилизаций. Мне почему-то интереснее и понятнее шаманская тотемная культура практически исчезнувшего племени вогулов, символы Древнего Египта или кельтов, чем современность, которую я все больше и больше отказываюсь понимать.
Все-таки, почему меня так манит архаика?
Там есть тайна. Тайна не только прошлого, но и настоящего и даже будущего. Прикоснешься к этой тайне, и мир раскрывается в своей полноте. Какое скрытое величие в лабиринтах занесенных песком городов, сколько силы и смысла в древних символах и легендах. Хайдеггер называл Грецию "страной сбежавших богов". Они не сбежали, они здесь, они действуют.
Я – художник Атлантиды.
Я – художник Лемурии.
Буль...
* * *
Вот и кончился XX век, а с ним ушла в прошлое эпоха московского художественного андеграунда – счастливое, трагичное, неповторимое время квартирных выставок, споров об искусстве, несбыточных мечтаний. Мы верили (наивные), что в спорах родим истину, а истина в искусстве превыше всего (вдвойне наивные). Недавно в компании художников я попытался начать разговор о смысле творчества, на меня посмотрели как на идиота. Ушла искренность, сакральность, когда художники творили скорее для какой-то божественной радости, чем для потребителя. Пришел арт-бизнес. Пока еще вялый, непонятный, мутный, но уже приведший художников в смятение: "надо делать то, что идет". А помните, как продавали свои работы за бутылку водки, меняли на нужную книгу, просто дарили? Святые времена. Прощай, Великая Эпоха! Твоя боль в наших сердцах, в наших глазах твое счастье.
Интересно, каким будет искусство XXI века? Со второй половины XIX века в живописи стала доминировать идея импрессионистов – "я так вижу". Это было начало формальных поисков в искусстве, начало модернизма. В начале ХХ века возник синтетический кубизм (Пикассо, Брак), и больше половины столетия изобразительное искусство развивалось под лозунгом – "я так мыслю". Сюда же можно отнести и фовистов (Матисс, Ван-Донген), ибо пространство они мыслили цветом. Образы сюрреалистов – несомненный вымысел, только спекулятивно-бредовый. К концу ХХ века мир устал от всего на свете, в том числе и от аналитического искусства, зашел в интеллектуальный тупик и стал погружаться в безвкусную кашу постмодернизма.
Новый век русское искусство, как, впрочем, и мировое, встретило в состоянии патологического упадка и растерянности. Поле культуры вспахано-перепахано вдоль и поперек. Постмодернизм выродился в коммерческое эпигонство, вялое стилизаторство и просто похабщину. Над этим унылым полем гуляет слабый ветерок какого-либо интереса к современному искусству, изредка шевеля не в меру выросший сорняк, забивающий все вокруг. Слово "духовность" до такой степени затрепано, что стало синонимом творческой импотенции. Нужна "актуальность" (знать бы, что это такое). В живописи – километры безликой, бессмысленной, часто безвкусно слащавой конвейерной мазни (впрочем, это то болото, без которого вообще все может засохнуть. Главное, в нем не утонуть). Высшим достижением мировой художественной мысли стали скульптуры из сушеных человеческих трупов и фекалий или на Московской биеннале загаженный курами Лев Толстой (зачем?! за что?!), поделка "самого актуального художника". Конечно, за деньги можно обгадить что угодно и кого угодно – как известно, деньги не пахнут. Это не брюзжание, это наблюдения, подтверждающие диагноз – вялотекущий декаданс, упадок мысли, упадок духа (не путать с декадансом начала ХХ века – то был "конструктивный" упадок, вторжение в совершенно новую, глубоко чувственную, мистическую сферу бытия).
И все же, каким будет грядущий век, какие художественные идеи завладеют умами художников – "я так... что?" А может, это будет век Абсолютно Свободного Искусства, не нуждающегося ни в каких больших идеях? Или наступит эпоха коллективного Разума и Видения, где вообще будет отсутствовать "Я" художника (этакий "большой компьютерный стиль" или "антистиль", диктуемый арт-рынком)? Прелесть "ищущей себя" живописи станет анахронизмом, останутся одни эпигоны-ремесленники, которые будут писать картинки под любых мастеров прошлого, угождая невзыскательным вкусам.
Но в том, что в XXI веке появится какой-нибудь новый символизм (как новый изобразительный язык), у меня нет и тени сомнения, ведь символичность в той или иной мере присуща любому из направлений в искусстве во все времена. Символом может служить все: цвет, знак, образ, просто предмет – в разных ситуациях и в разные эпохи значение символов меняется, и в этой непредсказуемой изменчивости заложена тайна вселенских смыслов, а может быть, и культуры в целом, поэтому этот путь в искусстве не имеет предела, т.к. моделировать мир можно до бесконечности. "Я так моделирую мир при помощи образов и символов", – таким может быть лозунг нового искусства. Время символизма – время собирать камни.
Очень жаль, но, очевидно, Россия потеряла свою пассионарность в искусстве, и подобие русского авангарда начала ХХ века вряд ли возможно. Ставшая тривиальной фраза "живопись умерла – художники остались" столь же горька, сколь и оптимистична, поэтому, Бог даст, поживем и что-нибудь еще сделаем.
